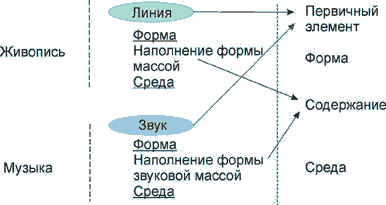Произведение любого
вида искусства объединяет в себе ту или иную их комбинацию.
Найденная
выше схема ясно и логично указывает на то, что элементы музыки и живописи
имеют одну природу – изменяется лишь материал, которым пользуется искусство,
но принцип отношения к этому материалу одинаковый для всех видов искусства:
из Первичного элемента создается форма и наполняется содержанием. Поэтому
разные виды искусства могут использовать один и тот же принцип связи элементов;
а различия их будут определены Первичным элементом и средой (пространство
времени и пространство плоскости).
Структура
определяется единым характером связей между элементами целого, единым законом
формообразования. Характер связей не предуказывается, ибо он и определяет
тип структуры (функциональная структура, композиционная структура и т.п.).
Структура
не обязательно представляет собой завершенной целое. Изображение может
быть продолжено, оставаясь структурно тем же. Элементы структуры, вообще
говоря, могут меняться, важен лишь общий характер связей между ними, общий
принцип формообразования.
В искусствознании
компоненты структуры называют иногда формами или средствами. Так, в музыке
выделяют как компоненты общей структуры произведения (общей формы) – мелодию,
а в этой последней – звуковысотное движение и ладовые тяготения к их интонационным
содержаниям. Мелодическая ткань затем формируется размером и ритмом, взаимодействует
с гармоническими формами. Развивающаяся во времени целостная звуковая ткань
может быть подчинена полифонической структуре, распадаться на отдельные
«мысли», «периоды» и т.д. Все это компоненты структуры.
С понятием
«структура» по отношению к произведению искусства часто связывают «многослойность».
В процессе восприятия мы проникаем во все более и более глубокие слои произведения.
Один слой структуры служит базой для восприятия другого. Произведение искусства
– многослойная структура (от звуков, красок – до идей).
Конструкция
– тип структуры. Элементы в ней связаны функциональными связями. Связи,
создающие композиционное целое – это, прежде всего, конструктивные связи.
Возвращаясь
к вышесказанному, в основу как музыкальной, так и живописной композиции
могут быть заложены одни и те же конструктивные связи. Примером этого могут
служить единые для музыки и живописи конструктивные стремления композиционной
формы (по Кандинскому):
«1. Композиция простая,
подчиненная ясно находимой простой форме. Такая композиция называется мелодической.
2. Композиция сложная,
состоящая из нескольких форм, подчиненных далее явной или
скрытой главной
форме. Внешне эту главную форму бывает очень трудно найти, почему и внутренняя
основа получает особенно сильное звучание. Такая сложная композиция называется
симфонической.
Между этими двумя
главными имеются разные переходные формы, которым обязательно присущ мелодический
принцип. Весь процесс эволюции благодаря этому поразительно похож на тот
же процесс в музыке. Отклонения от этих обоих процессов - результат влияния
другого действующего закона, однако, до настоящего времени всегда подчинявшегося,
в конце концов, первому закону развития. Таким образом, эти отклонения
не имеют решающего значения.
Если в мелодической
композиции удалить предметный элемент и этим обнажить лежащую в основе
художественную форму, то обнаружатся примитивные геометрические формы или
расположение простых линий, которые служат одному общему движению. Это
общее движение повторяется в отдельных частях и иногда варьируется отдельными
линиями или формами. Эти отдельные линии или формы служат в этом последнем
случае различным целям, и соответствуют музыкальному обозначению "fermata".
Например, мозаика в Равенне, которая в главной группе образует треугольник.
К этому треугольнику все менее заметно склоняются остальные фигуры. Простертая
рука и занавес на двери образуют фермату.
Все эти конструктивные
формы обладают простым внутренним звучанием, которое имеет и каждая мелодия.
Поэтому они называются мелодическими. Эти мелодические композиции, пробужденные
к новой жизни Сезанном, а позже Ходлером, в наше время получили обозначение
ритмических. Это было стержнем возрождения композиционных целей. С первого
взгляда ясно, что ограничение понятия "ритмические" одними лишь этими случаями,
является слишком узким. Как в музыке каждая конструкция обладает своим
собственным ритмом, как и в совершенно "случайном" распределении вещей
в природе каждый раз наличествует ритм, - так и в живописи. Только в природе
этот ритм нам иногда неясен, так как цели его (в некоторых и как раз важных
случаях) нам неясны. Этот неясный подбор называют поэтому аритмическим.
Таким образом, это деление на ритмическое и аритмическое совершенно относительно
и условно (так же, как и деление на гармоническое и дисгармоническое, которого,
в сущности, не существует). Примером такой ясно различимой мелодической
конструкции с открытым ритмом можно считать "Купальщиц" Сезанна.
Примером более сложной
"ритмической" композиции с ярко выраженной тенденцией симфонического принципа
являются многие картины, гравюры по дереву, миниатюры и пр. прошедших художественных
эпох. Достаточно лишь припомнить старых немецких мастеров, персов, японцев,
русских иконописцев, и особенно лубочные картинки и т.д.
Почти во всех этих
произведениях симфоническая композиция еще очень сильно связана с мелодической.
Это означает, что при удалении предметного элемента и обнажении тем самым
композиционного, становится видимой композиция, построенная на чувстве
покоя, спокойного повторения и довольно равномерного распределения. Большую
роль здесь играет традиция. И в особенности в искусстве, ставшем народным.
Такие произведения возникают главным образом в период культурно-художественного
расцвета (или при переходе в следующий). Законченный полный расцвет излучает
атмосферу внутреннего покоя. В период зарождения слишком много борющихся,
сталкивающихся, тормозящих элементов, и спокойствие не может быть явно
преобладающей нотой. В основе своей естественно, что каждое серьезное произведение
все же спокойно. Только современникам нелегко найти это спокойствие (возвышенность).
Каждое серьезное произведение внутренне звучит, как спокойно и величаво
сказанные слова: "Я здесь". Любовь и ненависть к произведению улетучиваются,
исчезают. Звучание этих слов вечно. Невольно вспоминаются старинные хоровые
композиции, Моцарт и, наконец, Бетховен. Все эти произведения имеют большее
или меньшее сродство с возвышенной, полной покоя и достоинства архитектурой
готического собора: равновесие и равномерное распределение отдельных частей
являются камертоном и духовной основой подобных конструкций. Подобные произведения
принадлежат к переходным формам.
В зависимости от
различных источников возникновения симфонических композиций, мелодический
элемент, который находит применение лишь иногда и как одна из подчиненных
частей, получает новую форму.
Вот пример трех
различных источников возникновения:
1. Прямое впечатление
от "внешней природы", получающее выражение в рисуночно-живописной форме.
Такие картины называются "импрессиями";
2. Глазным образом
бессознательно, большей частью внезапно возникшие выражения процессов внутреннего
характера, т. е. впечатления от "внутренней природы". Этот вид называется
"импровизациями";
3. Выражения, создающиеся
весьма сходным образом, но долго и почти педантически изучаются и вырабатываются
по первым наброскам. Картины этого рода называются "композициями". Здесь
преобладающую роль играет разум, сознание, намеренность, целесообразность.
Но решающее значение придается всегда не расчету, а чувству...»
Важнейшие
свойства различных сфер искусства связаны со спецификой их пространственно-временных
структур.
В любом музыкальном
или художественном произведении присутствуют три слоя пространства – времени.
Первый – это
параметры реального пространства–времени. Проявляется этот слой в материале
искусства и в том пространстве – времени, в котором происходит восприятие
произведения.
Второй слой
– концептуальное пространство–время. В нем сконцентрирован замысел автора,
выразительные средства, деформация реального.
Третий слой
– перцептуальное пространство–время. Его субъективный характер заставляет
художника и зрителя искать адекватные формы с формами реального пространства
и времени. Средством отыскания этой адекватности служит концептуальное
пространство – время.
Если проследить
путь, который совершает реальное начало в музыкальном произведении от замысла
автора до восприятия слушателя, то выстраивается сложнейший лабиринт со
всеми прямыми и обратными связями реального, концептуального и прецептуального
пространства – времени. То же самое можно пронаблюдать и в сфере живописи.
Ритм – категория
временная, но как в музыке, так и в живописи, ритм играет равнозначную
роль с другими категориями, формообразующую. Ритмическая структура картины
определяет взаиморасположение основных масс изображения, взаимодействие
предметов, характер и направление мазка.
Чтобы передать
большой отрезок времени в картине, художник расширяет событийность в пространстве,
прибегая к методу цикличности; некоторые художники на одном полотне помещают
несколько событийных ситуаций, используя в плоскости одной картины принцип
сюжетности, например, «Сады радости» Босха, где целое состоит из множества
«самостоятельных сцен».
Еще один способ
передачи длительности – открытости формы, когда картина «продолжается»
за пределы рамы. Большинство картин Петрова-Водкина построено по
принципу открытости формы.
Музыка – искусство,
невозможное вне времени, но оно не мыслимо и вне пространства. Реальное
пространство в музыке выступает как акустическая среда, в которой звучит
музыкальное произведение. Но помимо пространства – среды есть более сложное
проявление категории искусства в музыке – пространство музыкального образа,
пространство мысленное. Это пространство, как и реальное, обладает качеством
обратимости, когда исполняется реприза или повторяется и утверждается какая-либо
тема из уже звучавших ранее. Это звучание является движением по горизонтали.
Движение в глубину пространства и обратно осуществляется путем постепенного
усиления общего звучания и постепенного его замирания. Когда смена нюанса
происходит внезапно, как, к примеру, в произведении Бетховена, слушатель
переносится из одного пространства в другое.
Вертикаль
в музыке – это интервал, аккорд, полифония. Но полифоническое построение
можно образно назвать средством умножения пространств.
Есть много
примеров в классической музыке, когда композитор полифонизирует пространство
с помощью расширения пространства – среды. Этот эффект эха осуществляется
звучанием отдельных инструментов или целых ансамблей, расположенных в разных
частях сцены или зала: Берлиоз «Фантастическая симфония», Бетховен
увертюра «Леонора № 3» и т.д.
Очевидно,
что пространственно–временные категории определяют не только различия музыки
и живописи как видов искусства, но в не меньшей степени являются общими
для обоих видов, выполняющими в них равноценную формообразующую функцию.
Уже само слово
«форма» обозначает нечто протяженное в протяженном, и даже внутренние формы
музыки не являются здесь исключением. Но протяженность есть признак факта
движения, через которое мы осознаем пространство. Время здесь не столько
понимается через пространство, сколько служит нам для внутреннего чувства
протяженности. Поэтому живописное произведение может вызвать переживание
протяженности во времени в равной степени, как музыкальное – переживание
глубины пространства.
Обратимся
к расхождениям между восприятием нашего мира в терминах времени в терминах
пространства. Все компоненты музыкального произведения – это чистые действия.
Музыкальная тема является не предметом, а событием. В мире чистых звуков
причинные связи ограничены звуковой последовательностью: один звук следует
за другим в линейном временном измерении. Исполнение музыкального произведения
имеет временные границы; оно имеет начало и конец, но в каждый момент времени
непосредственно воспринимается только отдельный отрезок произведения. Между
тем в психологической деятельности память расширяет границы восприятия,
позволяя выйти за его пределы. Поэтому мелодия, состоящая из нескольких
тактов воспринимается как целостность. Таким образом, опыт, полученный
в настоящем, может быть распространен на более крупные единицы иерархической
структуры, в той или иной степени зависящей от способности человека к пониманию.
Необходимая
трансформация временной последовательности в точку, в одновременность порождает
целый ряд особых проблем, поскольку в действительности только зрение в
состоянии совершить такую трансформацию. Строго говоря, в музыке одновременность
не может выйти за пределы тонов одного аккорда. Сжатие звуковой последовательности
в точку приводит лишь к беспорядочному шуму. Отсюда вытекает, что каждый,
кто хочет целиком изучить музыкальное произведение, должен представить
себе его структуру как зрительный образ.
В основном
живой организм обрабатывает поступающую информацию последовательно. Даже
в сетчатке глаза высших животных развивается слепое пятно, центр наилучшего
видения, которое пристально вглядывается в мир, высвечивая в нем, подобно
узкому лучу, отдельные детали. Хотя, картину предпочтительно смотреть стоя
на некотором расстоянии, чтобы она вся попала в поле зрения наблюдателя,
направленное видение в каждый данный момент времени ограничено крошечным
участком, так что понять картину можно лишь подробно ее разбирая и изучая.
Таким образом, последовательное восприятие характеризует все художественные
средства, как пространственные, так и временные. Однако, в темпоральных
искусствах, таких, как музыка, в отличие от пространственных, эта последовательность
внутренне присуща образам и ограничивает их восприятие. В пространственных,
не изменяющихся во времени искусствах – живописи, скульптуре или архитектуре,
- последовательным является сам процесс восприятия предмета искусства,
а также его осмысление, процесс субъективный, допускающий известный
произвол и происходящий вне пределов структуры и содержания произведения.
Очевидно,
что лишь благодаря визуальной динамике, внутреннему напряжению, свойственному
всем объектам, оказывается возможным отобразить действие в пространственных
искусствах (в противном случае абстрактная живопись и скульптура не смогли
бы передать динамку какого-либо действия). Эта динамика поддерживается
также казуальными* связями между компонентами образа. В пространственном
многообразии казуальные отношения свойственны не только линейной последовательности,
но и распространяются в разных направлениях, задаваемых двух- или трехмерным
художественным средством. Взаимопритяжения и взаимоотталкивания, которые
возникают, например, между различными элементами картины, создают то взаимодействие,
которое должно быть воспринято зрителем хотя бы образно. Только когда собраны
все элементы изображения и связаны воедино, возникает адекватное представление
о динамике действия. Динамика действия встроена в образ и не зависит от
его объективного амплуа.
Понять картину
можно только при условии синоптического восприятия всех многообразных переплетений
связей между элементами произведения. То же верно и в отношении темпоральных
искусств. С физической точки зрения музыкальное исполнение линейно упорядочено,
но при этом оно образует канал коммуникации. Музыкальная форма – это объект
значительно более сложный, нежели линейная последовательность. Слушая музыку,
мы по-своему перестраиваем внутренние связи произведения и даже создаем
новые художественные фразы, как бы подбирая подходящие пары (например,
при переходе от трио к менуэту), хотя, при исполнении музыка разворачивается
линейно.
Различия между
временными и пространственными искусствами теряют смысл, если понять, что
секвенциальная передача информации приводит всякий раз к нелинейной структуре.
Всякое произведение
живописи является размещением в двумерном пространстве (на холсте или на
ином материале) определенного количества элементов, что составляет основу
композиции. Каждый из составляющих целое элементов обладает характеристиками
(форма, цвет и т. л.) и вступает в сложную цепь взаимоотношений как с близлежащими,
так и отдаленными от него в пространстве элементами. Перед художником,
создающим свою картину, сразу же встает проблема формы – координирования
элементов, придания им логики пространственного распределения ритма внутри
композиции, уничтожения случайного и нарушающего единство и целостность.
Близкими по
смыслу элементами оперирует и композитор. Всякое музыкальное произведение
является размещением в одномерном пространстве некоторого количества элементов
(звуковых объектов), составляющих структуру целого. Распределение их во
времени – основа музыкальной композиции. Каждый из элементов имеет характеристики
(свою звуковую «форму», определяющуюся рядом параметров, свой «цвет» -
тембр); звуковые объекты вступают, как и в живописи в сложную цепь взаимоотношений
с большим количеством других элементов. Как и живописная композиция, музыкальное
произведение имеет свои проблемы взаимного распределения и координирования
элементов, свои ритмические проблемы, свои закономерности единства целого.
По существу, работа художника и композитора в чем-то является очень близкой,
несмотря на физическое развитие элементов, которыми им приходится оперировать.
В фигуративной
живописи большое значение имеет не только общая композиция (форма в широком
смысле этого слова), но и развитие сюжета, темы данной картины. В музыке
XVIII-XIX веков также основное внимание уделяется тематизму и сюжетности.
Наиболее яркие
аналогии возникают между нефигуративной (или полуфигуративной) живописью
и музыкой. В нефигуративной живописи структурные проблемы выступают более
выпукло, так как составляющие картину элементы уже не подчиняются сюжетному
тематизму, а их выразительные возможности проявляются в цвете и форме.
Еще более ясно эти закономерности проявляются, когда элементы обретают
определенные геометрические формы, варьируемые в цвете и пропорциях. Перед
художниками, впервые обратившимися к нефигуративной живописи, наиболее
остро встали проблемы внутреннего единства формы и возможных путей ее лаконичного
решения.
Аналогичные
задачи возникли и перед композиторами, когда они отказались от тематизма
(в старом понимании этого слова) и от функциональности как основы построения
формы. Стремление к лаконизму в выборе составляющих целое элементов привело
к идее выведения всех элементов формы из единого тематического источника.
Подчинение как целого, так и всех деталей единому знаменателю, выведение
всех внутренних закономерностей из единой серии, являющейся тематическим
источником, - характерная черта многих произведений ХХ века.
Серийный принцип
построения композиции встречается в ряде картин П. Клее и П. Мондриана.
Яркие примеры этого – «Фуга в красном» (1921), «Статическая и динамическая
градации» (1923), «Старинные аккорды» (1925), «Цветущий сад» (1930) П.
Клее или же «Композиции» (1917-1928 годов) и «Victory Boogie - Woogie»
(1944) П. Мондриана. Пожалую, никто из более поздних художников не стоял
в своих работах так близко к музыке, как П. Клее и П. Мондриана.
Не раз в музыке
предпринимались попытки выражения содержания произведений изобразительных
искусств средствами музыки («Картинки с выставки» М. Мусоргского, «Обручение»
Рафаэля и «Мыслитель» Микеланджело, в «Годах странствий» Ф. Листа и др.),
но все они имели, в целом, эмпирический характер. Наиболее точно обратный
процесс был осуществлен Я. Ксенксисом, превратившим музыкальную архитектуру
своего «Метастазиса» в архитектурно реализованный павильон «Филипс» на
Брюссельской выставке 1958 г.
В наше время
наблюдается расцвет так называемой музыкальной графики. Постепенное увеличение
в музыкальном тексте «полей неопределенности», а также выдвижение на первый
план сонорных качеств звукового объекта и компоновка формы как суммы
звуковых пятен различной окрашенности и различной интенсивности, привели
к появлению новых систем записи звукового текста, гораздо более мобильных
и, как правило, допускающих известное множество прочтений текста.
Таким образом,
вся сфера музыкальной графики предполагает, как обязательное, наличие свободы
выбора среди возможных реализаций, то есть, по сути дела, является в большей
степени областью импровизационной. Назначение графических символов – дать
толчок импровизации и, вместе с тем, направить ее в определенное русло.
В наиболее чистом виде эта графика имеет самостоятельную выразительность,
и написано довольно большое число произведений, которые могут существовать
и как музыкальные (то есть быть исполнены), и как графические (то есть
могут и не интерпретироваться, а рассматриваться просто как рисунки).
Как мы видим,
графически это сочинение является размещением на определенном участке двумерного
пространства тридцати одной линии различной длины и «плотности». Ряд линий
расположен горизонтально (20 линий), ряд – вертикально (10 линий).
Одна «линия», по своей равной вертикальной и горизонтальной интенсивности,
превратилась в квадрат (левый верхний угол). (Пример взят из статьи Д.
Лигети «Новая нотация – средство коммуникации или самоцель?», Scott, Mainz,
1965, S. 41 ).

Каждая из линий
может быть рассматриваема как звуковой объект определенного объема и интенсивности.
При интерпретации мы должны учитывать и относительную плотность распределения
звуковых объектов в пространстве. Вполне очевидно, что реализация такого
произведения допускает бесконечное множество интерпретаций (так как реализатор
ограничен небольшим количеством широко сформулированных условий), но количество
звуковых объектов при любой реализации конечно и ограничено цифрой 31.
Следовательно,
при любом способе интерпретации это сочинение, вероятно, будет занимать
весьма небольшой промежуток времени.
В качестве
примера рассмотрим один из возможных вариантов. Предположим, что пьеса
исполняется на фортепиано. Поскольку метод прочтения этого произведения
автором не предписывается, будем исчерпывать последовательно все звуковые
объекты в любом порядке до тех пор, пока не реализуем их все, или же не
станем повторно реализовывать уже использованный нами объект (весьма часто
применяемый метод при исполнении сочинений, написанных в так называемой
«технике групп»). Тогда количество исполняемых нами звуковых объектов будет
не больше цифры 31. Введем для себя следующие «звуковые координаты» (они
могут быть любыми): будем считать, что чем выше на рисунке помещена линия,
тем в более высокой частотной шкале он располагается (при обращении к фортепиано
линии легко распределить по семи октавам – в нашей пропорции, например,
два сантиметра на одну октаву); горизонтальные линии будем считать отдельными
звуками, а вертикальные – «кластерами» (звуковыми комплексами, в которых
одновременно исполняются все звуки, заключаемые в данном звуковом промежутке);
длину линий соотнесем пропорционально длительности звука (поскольку в избранной
пропорции длина колеблется от 1 мм до 10 мм, то мы, соотнеся, например,
1 мм к 1/8 единице счета (мы вправе избрать и любую другую единицу – получим
10 возможных длительностей); толщину линий – к силе звучания; взаимная отдаленность линий должна
учитываться и при их музыкальной реализации (паузы). При такой реализации
сочинение исполняется как одноголосно-пуантилистическое (так как кластеры
восприниматься как особые «толстые» ноты-звуки).
Мы можем при
тех же «координатах» избрать другой путь реализации, например, читать одновременно
все звуковые объекты, совпадающие по одной вертикали и двигаться слева
направо. При такой интерпретации пьеса будет, преимущественно, многоголосной,
но чрезвычайно краткой по звучанию. Можно вообразить и такой свободный
тип реализации, при котором все тонкие линии читаются как длящиеся звуки
(вне зависимости от того, вертикальные они или горизонтальные), а все толстые
– как «кластеры» разной плотности; с принципом повторяемости звуковых объектов
мы можем при данной реализации, например, не считаться и продолжать нашу
интерпретацию до тех пор, пока не сочтем данную графику исчерпанной.
|
3.2. Связи и разделения форм.
|
«Значение, с давних
пор придаваемое искусствоведением вневременно абстрактному размежеванию
отдельных художественных областей, доказывает попросту, что проблема не
была понята во всей ее глубине. Искусства суть жизненные единства, а живое
не может быть искромсано. Различать по самым внешним признакам художественных
средств и технических приемов бесконечную сферу на мнимо вечные отдельные
куски – с неизменными формальными принципами! – к этому и сводится всегда
первый шаг ученых – педантов. Разделяли «музыку» и «живопись», «музыку»
и «драму», «живопись» и «пластику», затем давали определения «живописи»,
«музыки», «пластики», «трагедии». Но технический язык форм является не
больше, чем маской самого произведения. Стиль не есть продукт материала,
техники и цели. Напротив, он представляет собой нечто такое, что никак
не умещается в рассудочном понимании искусства, - откровение чего-то метафизического,
таинственное долженствование, судьбу. У него нет ничего общего с материальными
границами искусств.»1
Творческий порыв,
действующий в бессловесных искусствах, никогда не будет понят, пока различие
между оптическими и акустическими средствами не перестанут принимать за
нечто большое, чем просто внешний признак. Отнюдь не это разделяет искусства
между собой. Искусство глаза и уха – этим не сказано ровным счетом ничего.
Не случайно, что Бетховен написал свои последние произведения, будучи глухим.
Тем самым были как бы разорваны последние узы. Для этой музыки зрение
и слух являются в равной мере мостом к душе, не больше. Греку совершенно
чужд этот визионерный способ художественного наслаждения. Он ощупывает
мрамор глазами; он почти телесно соприкасается с пастозным звучанием свирели.
Глаз и ухо служат ему приемниками всего впечатления.
В действительности,
звуки являются чем-то протяженным, ограниченным, числообразным, почти как
линии и краски; гармония, мелодия, рифма, ритм, почти как перспектива,
пропорция, тени и контуры. Различие между двумя видами живописи может быть
бесконечно выше, чем между одновременной живописью и музыкой. В сопоставлении
с какой-либо статуей Мирона ландшафт Пуссена и пасторальная камерная кантата
его эпохи, Рембрандт и органные произведения Баха, Гварди и оперы Моцарта
принадлежат к одному и тому же искусству. Их внутренний язык форм в такой
степени идентичен, что перед этим исчезает разница оптических и акустических
средств.
Поставить во главу
угла разделение искусства по признаку их воздействия на чувства – значит
заведомо навести порчу на проблему формы. Можно ли вывести общие основные
законы для разных видов искусства, и в чем истинное разделение форм. Рисунки
Рафаэля и Тициана, из которых один работает контурами, а другой –
пятнами светотени, принадлежат к двум различным искусствам; искусство Джотто
или Мантеньи и искусство Вермера или Яна ван Гойена едва ли имеют между
собой что-либо общее - один мазком кисти создает на красочной поверхности
холста своего рода рельеф, а другой – своего рода музыку, тогда как фреска
Полигнота и равеннский мозаичный портрет, даже по инструменту, которым
они выполнены, не могут быть включены в упомянутый жанр.
Если искусство имеет
границы – границы собственной оформленной души, - то только исторические,
а не технические или физиологические. Следствием общепринятых ученых методов
оказывается история с исключенной из не истории музыки. Первая входит в
корпус высшего образования, вторая предоставлена заботам круга специалистов.
Это равносильно тому, как если бы вознамерились написать греческую историю
за вычетом Спарты. Но, таким образом, теория искусства оборачивается некой
добросовестной фальсификацией.
Искусство – это
организм, а не система. Нет такого вида искусства, который проходил
бы через все века и культуры. Даже там, где мнимо технические традиции
– как в случае Ренессанса, - поначалу обманывают глаз и как бы свидетельствуют
о вечной значимости законов античного искусства, в глубине царит полное
различие. В греко-римском искусстве нет ничего, что роднило бы его с языком
статуи Донателло, картиной Синьорелли, фасадом Микеланджело. Кватроченто
связано внутренними узами родства только с современной ему готикой. Если
египетские портреты «повлияли» на архаический тип Аполлона, а этрусские
могильные росписи – на раннетосканские изображения, то это имеет не большее
значение, чем когда Бах писал фугу на чужую тему, чтобы показать,
что можно из этого выжать. Каждое отдельное искусство, китайский ландшафт,
как и египетская пластика и готический контрапункт, существует лишь однажды
и никогда не возвращается вместе со своей душой и символикой.
Понятие формы претерпевает
здесь огромное расширение. Не только технический инструмент, не только
язык форм – сам выбор искусства становится средством выражения. То, что
для отдельных художников означает создание какого-то значительнейшего
произведения, какова «Ночная стража» для Рембрандта, каковы «Мейстерзингеры»
для Вагнера – именно целую эпоху, - то же самое значение имеет для истории
жизни культуры создание какого-либо вида искусства, взятого в целом. Каждый
из этих видов искусств представляет собой некий организм сам по себе,
без предшественников и последователей, если не принимать во внимание чисто
внешние обстоятельства. Любая теория, техника, конвенция составляет часть
его характера и лишена чего-либо внешнего и общеобязательного. Когда начинается
одно из этих искусств, когда оно угасает, угасает ли оно или превращается
в другое, почему то или иное среди них отсутствует или доминирует
в известной культуре, - все это относится еще к форме в высшем смысле,
как и тот другой вопрос, почему отдельный живописец или музыкант – сам
того не сознавая – отказывается от определенных красочных оттенков и гармоний
и настолько отдает предпочтение другим, что по ним его узнают.
Сохранившихся произведений
искусства вполне достаточно, чтобы явить ту двуликость развития, без которой
нельзя вообще понять историю искусства. Первая – это душа, ландшафт, чувство;
вторая – строгая форма, стиль, школа. Первая проявляется в том, что составляет
отличительные признаки музыки или живописи отдельных людей, народов, рас,
вторая – в правилах игры. В Западной Европе существовала орнаментальная
музыка большого стиля – ее параллелью является античная пластика строгого
характера, - и музыка эта связана с историей строительства соборов, родственна
схоластике и мистике и находит свои законы в материнском ландшафте высокой
готики между Сено и Шельдой. Контрапункт развивается одновременно с системой
распорок, и притом из «романского» стиля дисканта с его простым параллельным
движением и противодвижением. Это настоящая архитектура человеческих голосов,
мыслимая, подобно группам статуй и витражной росписи, только в структуре
этих каменных сводов, - высокое искусство пространства.
Музыка готики была
архитектонической и вокальной, музыка барокко – живописна и инструментальна.
Одна констатирует, другая работает мелодически; здесь вместе с тем осуществляется
переход от сверхличной формы к личной экспрессии великих мастеров. Ибо
все искусства стали уже городскими и, следовательно, светскими. Возникнув
незадолго до 1600 года в Италии метод генерал-баса рассчитан на виртуозов,
а не на аскетов. Если готическая классика представляет собой исключительно
архитектонический орнамент в виде вьющихся растений человеческой фантазии,
то рококо есть поразительный пример мнимой пластики, переставшей
фактически сопротивляться языку форм музыки. Здесь становится очевидным,
до какой степени техника, господствующая на переднем плане жизни искусства,
противоречит таящемуся в ней исконному языку экспрессии. Сравним сидящую
на корточках Венеру Куазво (1686 г.) в Лувре с ее античным образом в Ватикане.
Это пластика, как музыка, и пластика в собственном смысле слова. Явленную
здесь подвижность, течение линий, текучесть самого камня, утратившего некоторым
образом, подобно фарфору, свое твердое агрегатное состояние, можно лучше
всего описать с помощью музыкальных оборотов: stacatto, accelerando, andante,
allegro. Отсюда ощущение, будто зернистый мрамор тут неуместен. Отсюда
совершенно неантичный расчет на светотень. Это соответствует основному
принципу масляной живописи, начиная с Тициана. То, что в XVIII столетии
называют колористичностью – гравюры, рисунка, пластической группы, - означает
музыку. Она господствует в живописи Ватто и Фрагонара, в искусстве гобелена
и пастели. Когда мы говорим о колоритных звучаниях и звуковой окраске,
то тем самым признаем тождественность двух столь различных внешне искусств.
Музыка преобразовала архитектуру берниниевского барокко в рококо, над трансцендентной
орнаментикой которой «играют» световые блики-тона, растворяющие потолки,
стены, арки, все конструктивное и действительное в полифонии и гармонии,
так, что архитектонические трели, кадансы и пассажи окончательно устанавливают
идеалистичность языка форм этих залов и галерей с сочиненной для них музыкой.
Открывая «музыкальную
проникновенность, таящуюся в красках»2, мы тем самым подтверждаем, что
форма, будь то музыкальная или живописная, как целостное образование не
имеет аналога в действительности и потому не является ни прямой, ни косвенной
копией какого бы то ни было объекта. Сущность композиционной формы состоит
в том, что она является кодом обобщенных человеческих переживаний, выразительной
моделью, имеющей символический характер. В этом отношении существует принципиальное
сходство между живописным и музыкальным произведением. Таким образом, различие
композиционной формы разных видов искусства проявляется не в чистой форме,
а в «материальном слепке» с этой формы.
Искусство Ренессанса
- есть бунт против музыки контрапункта, которая как раз намеревалась установить
свое господство над всем языком форм законной культуры. Оно последовательным
образом произошло из зрелой готики, в которой естественно проступила эта
воля. Оно никогда не отрицало этого своего происхождения, а равным образом
и присущего ему характера чистого противодвижения, специфика которого неизбежно
оставалась зависимой от форм исконного движения, обернувшегося здесь обратной
реакцией на эту фиксирующую происходящее робкую душу.
Ренессанс – это
мгновение иллюзорного вытеснения музыкального элемента культуры. Лишь на
несколько мгновений было достигнуто нечто чудесное, чего нельзя воспроизвести
в музыке, - чувство счастья совершенной близости, чистых, покоящихся,
искупляющих пространственных эффектов, исполненных светлой расчлененности,
свободных от страстной взволнованности готики и барокко.
В XVI столетии западная
живопись переживает решительный сдвиг. Живопись становится полифонической,
«живописной», уносящейся в бесконечность. Краски делаются тонами. Искусство
кисти сродняется со стилем кантаты и мадригала. Техника масляных красок
становится основанием искусства, намеревающегося покорить пространство,
в котором теряются вещи.
Тем самым в картине
происходит переоценка всех элементов. Задний план, набрасываемый до этого
как попало, рассматриваемый как средство заполнения и почти отсутствующий
как пространство, приобретает решающее значение. В картине обнаруживается
горизонт, как внешний символ безграничного мирового пространства,
заключающего в себе случайно попавшие в поле зрения отдельные вещи.
Эта линия, в призрачной дымке которой расплывается небо и земля – воплощение
и сильнейший символ дали, - содержит в себе принцип бесконечно малых. Их
нее изливается в картину музыка, и оттого великие пейзажисты Голландии
по сути живописали только задние планы, только атмосферу, как и наоборот,
«антимузыкальные» мастера, вроде Синьорелли и, прежде всего Мантеньи, писали
только передние планы – «рельефы». В горизонте музыка одерживает верх
над пластикой, страстность протяженности над ее субстанциональностью.
Горизонт концентрирует
в себе отныне более глубокую форму и все метафизическое значение картины.
Осязаемое и передаваемое через надпись содержание, которое подчеркивалось
и культивировалось живописью Ренессанса, становится теперь средством,
просто носителем неисчерпаемого уже словами значения. У Мантеньи и Синьорелли
какой-нибудь набросанный эскиз, даже без исполнения в красках, мог
бы вполне сойти за картину. В отдельных случаях возникает желание, чтобы
они так и остались картинами. Предмет, то есть то, что можно закрепить
контурным рисунком, близость, вещественность потеряли свою художественную
действительность и в теории искусства, остававшейся под влиянием Ренессанса,
с тех пор господствует странный и никогда не прекращающийся спор о «форме»
и «содержании» в художественном произведении. Его формулировка покоится
на недоразумении и заслонила собой весь значительный смысл вопроса. Нужно
было решать как понимать живопись: пластически или музыкально, как статику
предметов или как динамику пространства – ибо к этому и сводится более
глубокая противоположность между фресковой и масляной техникой. Контуры
ограничивают материальное, красочные оттенки интерпретируют пространство.
Но первое непосредственно чувственно. Оно рассказывает. Пространство по
самой своей сути трансцендентно. Оно говорит воображению. Для искусства,
подчиненного его символике, повествовательная сторона сопряжена с понижением
и помрачением более глубокой тенденции, и теоретик, который чувствует
здесь тайное несоответствие, но не понимает его, цепляется за поверхностную
противоположность содержания и формы.
Превращение фресковой
живописи Ренессанса в масляную в Венеции - есть отрывок истории души.
Новое мирочувствование создало для себя новую технику. Оно отвергло рисовальный
стиль, как отвергло и геометрию координат, преобразило связанную с архитектурными
мотивами линейную перспективу в перспективу чисто атмосферическую, работающую
неуловимыми различиями тонов.
Через всю историю
искусства прослеживается следующая закономерность: мир новых форм, связанный
с новым художественным стилем, как правило требует для своего адекватного
выражения и новой художественной техники. Это обусловлено уникальностью
связи идеи и материализации формы, т.е. однозначным характером соответствия
между ними. Каждый художник испытал это на собственный лад. Борьба между
рукой и душой, между глазом и инструментом, между формой, требуемой художником,
и формой, требуемой временем равно свойственна как музыке, так и живописи.
Здесь мы, наконец,
понимаем исполински задуманный Леонардо эскиз Поклонения волхвов в Уффици,
величайшее живописное дерзание Ренессанса. До Рембрандта такое никогда
еще не приходило в голову. Сверх всякой оптической меры, сверх всего,
что тогда называли рисунком, контуром, композицией, группой, он взыскует
поклонения вечному пространству, в котором все телесное парит, как планеты
в капернинанской системе, как звучания баховской органной фуги в сумраке
старых церквей, - образ, исполненный такой динамики дали, что ему так и
пришлось остаться торсом в рамках технических возможностей эпохи. Леонардо
стоит по ту сторону границы. Эскиз к поклонению волхвов есть уже
музыка. Исполнено глубокого смысла то обстоятельство, что он здесь, как
и в своей керамике остался верен коричневой грунтовке, это «стадии Рембрандта»,
атмосферическому коричневому тону следующего столетия. Эскизы к картине
свидетельствуют, насколько близка была ему гравюра в манере Рембрандта,
искусство родины контрапункта, неизвестное во Флоренции. Только венецианцы,
свободные от флорентийской конвенции, достигли того, чего он искал здесь:
мира красок, служащего пространству, а не вещам.
Итак мы видим, что
в основе формы как в музыке, так и живописи лежит нечто внутреннее, глубинное.
В любом виде искусства композиционная форма обусловлена внутренней необходимостью
и возникает по трем причинам:
1. художник /композитор/
как дитя своей эпохи, должен выразить то, что присуще эпохе – реализация
коллективного бессознательного;
2. художник /композитор/
как личность, должен выразить то, что ему свойственно – реализация личного
бессознательного;
3. художник /композитор/
как служитель искусства, должен давать то, что свойственно искусству вообще
– реализация чисто художественного.
Музыка и живопись
образуют в каждой эпохе многие формы, которые, несмотря на внешне большие
различия, настолько органически связаны между собой, что их можно считать
тождественными, так как их внутреннее звучание является, в конечном
итоге, одним главным звучанием.
1 О.Шпенглер.
Закат Европы.
2 Р.Мутер.
История живописи
|